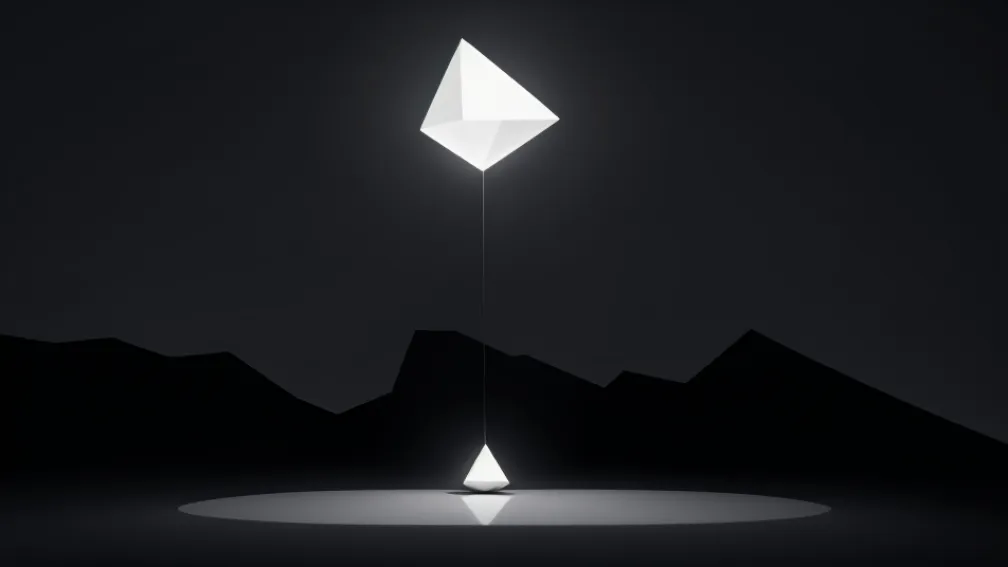
В нескольких словах
Французский историк Жан-Жак Монье в новом исследовании анализирует, как многовековая политика централизации власти в Париже привела к глубокому неравенству между столицей и регионами. Он утверждает, что этот процесс, начавшийся задолго до Революции, подавлял культурное и языковое разнообразие страны, и его последствия ощущаются до сих пор.
Могла ли Франция быть менее централизованной? По мнению историка и географа Жан-Жака Монье — несомненно. В своем новом двухтомном труде он представляет масштабный анализ истории французского централизма, утверждая, что система, где "Париж — это всё, а провинция — ничто", усугубляет неравенство и имеет глубокие исторические корни, уходящие далеко за пределы эпохи Революции.
Вопреки распространенному мнению, что централизация началась с якобинцев, Монье прослеживает ее истоки до первых королей из династии Капетингов. Начиная с крошечного королевства франков, монархи столетиями расширяли свои владения, зачастую силой, изначально закладывая неравенство, провозглашая себя единственными королями и отказывая в этом титуле другим.
Ключевыми фигурами в этом процессе историк называет Филиппа Августа (1170-1223) и Филиппа Красивого (1285-1314). Первый, завоевав графство Тулуза, не только расширил королевство, но и способствовал упадку процветающей культуры и языка юга. Второй превратил феодальное государство в современную монархию, где воля короля стала законом. Этот абсолютистский подход был доведен до совершенства Людовиком XIII и Людовиком XIV.
Методы были жестокими: от принудительных браков до прямого насилия. Монье описывает "процесс ошеломления" — целенаправленный террор для подчинения местных элит. В качестве примеров он приводит резню катаров, сожжение крестьян в церкви и зверства в Бретани, сравнивая некоторые действия с политикой Гитлера, как это делала философ Симона Вейль.
Французская революция, по мнению историка, лишь укрепила централизм. После казни короля единство нации стали строить на едином представительном органе, отказе от федерализма и едином языке, стремясь "уничтожить" региональные "патуа". Провинции были заменены на 83 искусственно созданных департамента, что позволило Парижу "разделять и властвовать". Даже отмена привилегий 4 августа послужила концентрации власти в столице.
Этот якобинский дух, по словам Монье, пережил все последующие режимы. Наполеон рационализировал и укрепил революционные рамки. Даже попытки децентрализации, как реформы Миттерана в 1982 году, оказались половинчатыми, и сегодня наблюдается процесс рецентрализации, особенно в финансовой сфере.
Особую роль в этом процессе играла культура. Идея превосходства парижской культуры и французского языка насаждалась веками. В школах Третьей республики детей жестоко наказывали за использование родных языков — бретонского, баскского, окситанского, что продолжалось вплоть до 1960-х годов.
Монье утверждает, что такая система неэффективна. Она порождает социальные взрывы, такие как протесты "Желтых жилетов" или "Красных колпаков", вызванные решениями, принятыми в Париже без учета реалий периферии. Историк приходит к выводу, что Франция выиграла бы от перехода к федеративной модели, подобной Германии или Швейцарии, где местная ответственность обеспечивает лучшую адаптацию к реальным потребностям территорий, вместо того чтобы цепляться за "традиции", которые доказали свою пагубность.


